Сорок лет назад ушел из жизни мой отец, двадцать пять лет назад – мама. Оба воевали: отец – заместитель командира полка, мама – начальник госпиталя. Два майора. Победители. В 1945 году им было по 38 лет.
Отец умер, когда мне было 27. Теперь я сравнялся с ним возрастом.

Мои родители и сестра Галина
Как и все мальчишки, в детстве я играл «в войну», пришивал на одежду сохранившееся отцовские погоны, клал игрушечные пистолеты в настоящие кобуры от боевого оружия, надевал отцовскую портупею и мамину пилотку. И часто приставал к отцу с просьбами рассказать что-нибудь о войне, которая мне казалась чем-то очень увлекательным. А отец почему-то отговаривался и ничего не рассказывал.
У нас был гостеприимный и хлебосольный дом. К нам много раз приезжали фронтовые друзья отца – бывшие капитаны, майоры, подполковники и полковники. Всегда желанным гостем был замечательный человек — Георгий Михайлович Шепелев, бывший командир полка, подполковник в отставке, Герой Советского Союза.
Родители и гости сидели за столом, выпивали, смеялись, «травили» анекдоты, пели песни, говорили о жизни, но ни разу ни от кого из них я не слышал каких-либо рассказов и воспоминаний о войне. Если и вспоминали что-то, связанное с войной, то только погибших или отсутствующих товарищей. То же самое я видел и слышал, когда приезжал с родителями к кому-нибудь из бывших фронтовиков.
Тогда я не понимал этого, ведь война мне казалась каким-то большим и романтическим событием. И лишь с возрастом мне стало ясно, что война – это страшная и очень грязная часть жизни, к которой пережившие ее люди не хотели возвращаться даже в памяти.
Когда я начал взрослеть, я стал кое-что узнавать о войне от отца, он вспоминал некоторые случаи, правда, либо в связи с какими-то обстоятельствами, либо по ассоциации с чем-то. И сейчас, воспроизводя в памяти эти короткие рассказы отца, я каждый раз убеждаюсь в том, какое тяжелое время пережили мои родители и участниками каких ужасных событий они были.
И склоняю голову перед ними.
Рассказы отца и мамы, записанные мной через много лет после их ухода, конечно, грешат неточностями, особенно привязками к временным ориентирам. И это объяснимо – ведь я их воспроизвожу со слов, услышанных почти полвека назад. Многое недоговаривалось родителями, а многое мог забыть уже я, ведь тогда я был молодой и не уделял этому особого внимания. А сегодня уточнить уже не у кого.
Тем не менее, описанные события и приведенные фамилии истинны и сомнений вызывать не должны.
Пусть эти рассказы будут данью светлой памяти моих отца и мамы.
РАССКАЗЫ ОТЦА
1. ДВА РАССКАЗА О ВЛАСОВЦАХ
После кино
Отец не любил фильмы про войну и не смотрел их ни в кинотеатрах, ни по телевизору, поэтому я очень удивился, когда он предложил мне сходить с ним на фильм «Освобождение. Огненная дуга». Это же был военный фильм! Однако отец внимательно смотрел кино, иногда кивая головой и говоря:
— Правильно! Очень похоже! Верно!
После эпизода с перестрелкой горящих танкистов на горящих танках он тихо сказал:
— Да! Так и было! Только они друг в друга не стреляли. Им было не до этого.
Когда сеанс окончился, и мы вышли на улицу, отец опять почему-то вспомнил эпизод с танкистами и задумчиво сказал:
— Я видел, как солдаты и танкисты расправлялись с пленными власовцами. Их головами подсовывали под гусеницы и наезжали на них танком.
Я был шокирован! Даже представить себе не мог! Это было ужасно! Я в своей фантазии мог воспроизвести горячку боя, состояния страха, аффекта, ярости, но это… Хладнокровно расправляться с пленными таким образом!..
Увы, это было правдой! Ненависть бойцов Красной Армии к власовцам «зашкаливала». Если с немцами всё было ясно и понятно – враги, чужеземцы, захватчики, то в отношении власовцев никакая логика не работала: свои, русские воюют против своих же, русских! Оставалась только ненависть, принимающая чудовищные формы и не оставляющая места другим чувствам: пониманию, жалости, состраданию, прощению.
У войны нет полутонов. Есть свой, и есть чужой. Свой – друг, чужой – враг. Не совсем друг воспринимается как враг. Почти враг воспринимается тоже как враг. Закон войны прост: или ты его, или он тебя.
Теперь известно, что многие наши пленные солдаты, не выдержав нечеловеческих условий немецких концлагерей, сознательно вступали в РОА Власова, чтобы при первом удобном случае уйти к своим. Но это мы знаем сейчас, а тогда об этом никто и не думал. Власовец воспринимался не просто как враг, а как свой враг, предатель! Не было ему пощады! Власовцев в плен не брали!
Позже отец сказал мне, что в конце войны власовцы знали, какая их ждет участь в случае попадания в плен, и поэтому они не сдавались и сражались до последнего, чем вызывали еще большую ненависть наших солдат и соответствующее к себе отношение.
Власовцы воевали с яростью обреченных.
Василий Самарский
Это было летом в конце шестидесятых – начале семидесятых. Мы возвращались с отцом на машине из Кадиевки (теперь – город Стаханов) от племянника мамы — моего двоюродного брата.
Где-то между городами Антрацитом и Новошахтинском отец увидел указатель поворота к населенному пункту (сейчас я не помню его название) и сказал:
— О! Так здесь же живет Василий Самарский, мой ординарец! Он давно еще мне писал, адрес оставлял. Давай заедем, может, он жив-здоров, повидаем его!
Я согласился, мы свернули по указателю, через какое-то время въехали в этот населенный пункт и после недолгих поисков нашли Василия. Он был на работе и очень удивился, когда увидел отца:
— Товарищ майор! Это вы, живой! А мне сказали, что вас уже нет!
Они обнялись, перекинулись несколькими словами, а потом Василий предложил немного подождать, пока он быстро закончит какую-то работу, чтобы поехать к нему домой и там уже хорошо посидеть. Отец поблагодарил, но сказал, что у нас не очень много времени, и мы не будем отрывать его от работы, а лучше в следующий раз специально приедем. Они еще немного поговорили, попрощались, отец пригласил Василия в гости, и мы уехали.
Некоторое время мы ехали молча, потом отец задумчиво произнес:
— Да-а-а, Васька, Васька! Молодой он был!
Еще немного помолчал и добавил:
— Шли с ним как-то из штаба на передовую. Отошли уже прилично, смотрим, из-за деревьев выходят два власовца с поднятыми руками. Сдаются и отдают винтовки. Я взял винтовки и говорю: «Вася, отведи их в штаб, сдай особистам». Васька снял с плеча автомат, скомандовал «Пошли!» и повел их. Не успел я пройти несколько шагов, как услышал две короткие автоматные очереди. Остановился, обернулся и увидел догонявшего меня Ваську. «А где власовцы?» — «Да ну их к черту, товарищ майор! Чего со всяким г…ом возиться!».
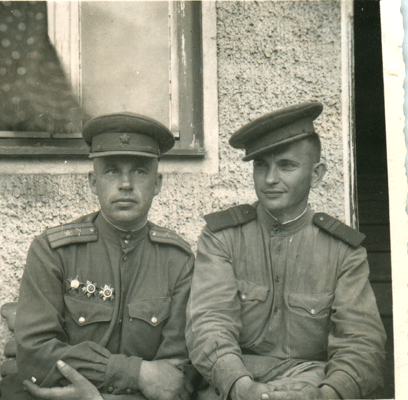
Отец и Василий Самарский.
Мы проехали еще немного, и отец закончил:
— Не стал я ругать и наказывать Василия – понимал его чувства! Никогда потом мы этот случай не вспоминали.
2. ДЕЗЕРТИР
Отец говорил, что войну выиграл старый русский солдат. Он был истинным победителем.
«Старым солдатом» отец называл солдата сорока-пятидесяти лет, призванного на фронт после страшного 41-го года, когда почти вся молодежь погибла в кровавой мясорубке.
О «старом солдате» отец говорил так:
— Он воевал обстоятельно. Попав в траншею или в окоп, начинал обустраиваться – где-то что-то подкапывал, где-то что-то подкладывал, что-то подправлял, вобщем, располагался с максимально возможным «комфортом» — чтобы и обороняться было хорошо и наступать удобно. В перерыве между боями обязательно одежду штопал и латал, обувь подправлял, оружие чистил и приводил в порядок. Не трусил, но и на рожон не лез, да и молодых от глупости удерживал.
Позже, видя лица солдат-победителей в документальных кадрах и на фотографиях, я понимал, что отец был прав. Именно эти люди и были настоящими солдатами Победы.

9 мая 1945 года
Когда мне было лет двадцать, я прочитал известное стихотворение Юлии Друниной, поэтессы-фронтовика:
Когда, забыв присягу, повернули
В бою два автоматчика назад,
Догнали их две маленькие пули –
Всегда стрелял без промаха комбат…
Потом в землянке полкового штаба,
Бумаги молча взяв у старшины,
Писал комбат двум бедным русским бабам,
Что смертью храбрых пали их сыны.
Я не понимал и не мог поверить, как мог командир, расстреляв трусов, по сути дела, дезертиров, написать в «похоронках», что они пали смертью храбрых. Почему? Зачем, ведь на самом деле все было совсем не так!
Еще больше меня поразил отец, когда он мне сказал:
— Командир сделал правильно! Почему сиюминутное малодушие этих людей, их позор должен падать на их семьи, на матерей, детей?
Окончательно я был «добит» его рассказом о «старом солдате» из его полка, который, честно отвоевав три года, имея несколько боевых наград, дезертировал в 1944-м году.
Тогда Красная Армия уже наступала, освобождала захваченные города и села, и бежавшего солдата очень быстро отыскали в одной из близлежащих от места расположения полка деревень.
Когда в трибунале солдата спросили, почему он дезертировал, он ответил:
— Я устал воевать, я больше не могу!
Стало понятно, что у солдата закончились все моральные и духовные силы, он был «выжат» войной, и ему было уже все равно.
Солдата расстреляли перед строем, а потом отец написал «похоронку» его родным, что солдат пал смертью храбрых.
Такова была логика войны!
3. РАССКАЗ О МОРЯКАХ
О моряках на войне написано много. Их мужество и героизм стали легендарными. Немцы боялись моряков и называли их «шварцтодт» — «черная смерть».
На фронт попадали экипажи судов, затопленных по необходимости, и спасшиеся моряки с затонувших кораблей. Из моряков формировали боевые единицы, которые либо вводили в состав действующих сухопутных частей, либо придавали им статус отдельных подразделений.
Отец рассказывал, что моряки воевали отчаянно. Немцы, буквально, вели за ними охоту, поэтому командование заставляло моряков переодеваться в сухопутную форму. Но вынудить моряка отказаться от морских традиций было невозможно. По сигналу атаки они расстегивали верхние пуговицы, распахивали гимнастерки, чтобы были видны тельняшки, вынимали из-за пазухи бескозырки, надевали их вместо пилоток и с громкими криками поднимались в атаку. Остановить моряка могла только смерть.
Артиллерийский полк отца готовился к наступлению «на отдельном участке фронта», как говорилось в приказе. Наступления ждали и моряки, приданные к пехоте. Впереди, недалеко от нашего переднего края была небольшая высотка, занятая немцами. В ее направлении и предстояло наступать на следующий день. Ориентиром служил большой деревянный крест, стоявший на высотке, неизвестно кем и по какому случаю поставленный. Вечером, ближе к закату на высоту были посланы в разведку два матроса. Через некоторое время после ухода разведчиков со стороны высоты раздались выстрелы и крики. Вскоре все стихло. Было ясно, что немцы обнаружили разведчиков, неизвестной оставалась лишь их судьба.
Вскоре даже без бинокля в сумерках можно было увидеть, как немцы подтащили к деревянному кресту одного из моряков. Видимо, он был ранен, потому что идти не мог. Немцы подняли его, привязали к перекладине креста и начали поливать чем-то из ведер. Ветер донес до наших позиций еле слышный крик моряка: «Братцы! Отомстите!».
Через несколько мгновений на высотке вспыхнул факел. Живой факел! Стало понятно, чем поливали немцы матроса.
Прошло еще немного времени, и наступила темнота. Без всякой команды моряки, зажав в зубах ножи, в бескозырках и в тельняшках поползли к высоте… За всю ночь с высоты не донеслось ни одного выстрела.
Моряки вернулись на позиции, а утром, когда после наступления высота была взята практически без боя, на ней увидели изуродованные ножами тела немцев.
Моряки выполнили последнюю просьбу товарища. Выполнили правильно и жестоко!
Командование не стало наказывать моряков за самовольные действия без приказа.
4. РАССКАЗЫ ОБ УЗБЕКАХ
Сергазы
На фронт прибыло пополнение.
Из самых далеких кишлаков Узбекистана мужчины призывного возраста, старые и молодые встали под ружье и пошли воевать. Это были люди совершенно неприспособленные к воинской службе, а, тем более, к войне. Большинство из них почти не говорили по-русски и не понимали, что от них требуют. Никакой предварительной подготовки у них не было. Но война оставалась войной, и на ней убивали.
Новобранцы из Узбекистана долго этого не понимали. Когда они шли в атаку, и кто-нибудь из них падал раненый или убитый, вокруг него тут же собирались соотечественники, начинали махать руками и громко голосить. Заканчивалось это тем, что в голосящую кучу людей прилетали снаряд или мина, и кроме одного убитого, накрывало всех.
Объяснить им, что во время атаки останавливаться, а, тем более, собираться вместе, нельзя, было бесполезно. Узбеки соглашались, кивали головами, но продолжали делать по-своему. Ругать и материть их было тоже бессмысленно. За науку воевать они платили собственной кровью, притом немалой.
А люди они были простые и хорошие, поэтому бывалые солдаты в большинстве своем относились к ним, как к детям – показывали, рассказывали, учили. Иногда довольно жестоко.
Передовое охранение – это окоп, выдвинутый на небольшое расстояние от переднего края в сторону противника. Это аванпост, самый близкий к противнику наблюдательный пункт. Часовые передового охранения чаще всего становятся жертвами охоты на «языков». Поэтому, находясь в передовом охранении, часовой должен проявлять повышенные бдительность и внимание.
А солдат отцовского полка по имени Сергазы в передовом охранении спал. Закутается в шинель, привалится к стеночке окопа и спит. Докладывали отцу об этом, говорил он с Сергазы. Не помогало.
И должен был отец отдать под суд Сергазы, но не хотел отправлять его в штрафбат на верную смерть. Тут еще и солдаты пришли:
— Товарищ майор, не отдавайте Сергазы в трибунал, пошлите его еще раз в передовое охранение. Мы его отучим спать. Не будет он больше.
— Ладно, давайте, посмотрим.
Залез Сергазы в окоп передового охранения, посидел, покрутил головой, понаблюдал за противником, а тот ничего особенного не делает. Прислонился Сергазы к стеночке, укутался шинелью и сам не заметил, как заснул. А солдаты-учителя тихонько подползли к окопу, накинули на голову Сергазы мешок, закрутили ему руки за спиной и потащили по окопу, при этом негромко, но так, чтобы Сергазы слышал, говорили немецкие слава, сопровождая их тумаками по мешку и спине.
Потаскали они Сергазы по окопу, поговорили над ним по-немецки, постучали по нему кулаками, а потом дали над ним очередь из автомата, и начали кричать уже по-русски, причем, громко и с матом. Кричать стали, как будто бы отбивают Сергазы у немцев. Сняли мешок с Сергазы, увидели его и удивились:
— Сергазы! Это ты? Как же ты так? Почему не стрелял? Тебя же чуть немцы не утащили!
Сергазы – в слезы, обнимает их, благодарит.
С тех пор больше не спал.
«Самострел»
После атаки привели к отцу солдата-узбека. Рука забинтована, в крови. Прострелена левая ладонь. Дело ясное – самострел. Хотелось парню такой ценой из армии уйти, с войны сбежать. Надо солдата особистам отдавать, а дальше все по цепочке: трибунал, приговор и расстрел перед строем.
Спрашивает отец парня, а он толком и сказать ничего не может:
— Моя тянул, а он стрилял…
Как ни спрашивает, а он опять:
— Моя тянул, а он стрилял…
Что тянул, как тянул, зачем тянул, кто стрелял, куда стрелял – непонятно. Пожалел отец парня — молодой еще. Не стал его особистам сразу отдавать. Решил выяснить, что же было на самом деле, может, кто-нибудь что-то видел.
И выяснил, нашел очевидцев среди солдат. Оказывается, во время атаки заскочил наш узбек в немецкий окоп и увидел убитого офицера с пистолетом в руке. Понравился солдату пистолет: красивый, необычный, «парабеллум». Стал он вынимать пистолет из руки убитого, а вынуть не может, у того палец на спусковом крючке почти окостенел. Начал левой рукой пистолет тянуть, а правой пальцы немцу разжимать. Упер ствол в ладонь, потянул палец, а пистолет и выстрелил. Хорошо, хоть в ладонь, а не в грудь.
Короче, написали справку, что ранен был парень во время атаки, и отправили его в госпиталь.
Жив остался солдат!
5. ФРОНТОВОЙ ЮМОР.
Был в медсанбате врач-грузин. Молодой был врач, хороший, только немного горячеват. Очень хотелось ему умение свое показать, сложные раны вылечивать.
А тут, после боя, как назло, только царапины да контузии. Казалось бы, радоваться надо, все целы, а врач расстраивается – некуда свои силы приложить. Пошли в медсанбат солдаты, доктор им царапины мажет, раны перевязывает, а сам сокрушается:
— Ну, что это за ранения! То рука, то нога! Ничего серьезного!
Не выдержал один легкораненый солдат, говорит ему:
— Доктор, не расстраивайтесь! Там, во дворе один боец сидит с головой в руках. С передовой к вам пришел, голову пришить хочет. Будет вам работа!
Все захохотали, а врач сначала смутился, а потом и сам смеяться стал.
***
Налетел как-то наш, советский штурмовик на наши же позиции и давай их утюжить! Перепутал, видимо, с немецкими. В своих стреляет! Один раз зашел, другой. Стреляет и стреляет. Солдаты в землю вжались, матерятся, а он разворачивается и опять на наши траншеи заходит.
Один солдат встал на колени, возвел руки к небу и пресерьезно взмолился:
— Господи! Убереги наши души, пошли какого-нибудь паршивого мессера, чтобы прогнал этого дурака!
Вроде, и смерть рядом, а всем стало смешно.
***
У немцев тоже были юмористы. Решили над нашими посмеяться. Нарисовали на большущем щите Сталина. Нехорошо нарисовали, на черта похожего, с рожками и клыками. Нарисовали и выставили на переднем крае лицом к нашим траншеям. Да еще и в громкоговорители начали кричать:
— Рус! Смотри свой фюрер!
Хотели наши сначала пальнуть по этому щиту, а потом передумали. У нас тоже художники нашлись. Пришли к отцу и попросили:
— Товарищ майор! Можно и мы им Гитлера нарисуем?
Согласился отец:
— Давайте, ребята!
Отыскали ребята где-то несколько простыней, сшили из них полотно и нарисовали на нем Гитлера. Да так нарисовали, что лучше и не придумаешь. Все изобразили, что хотели: и самого Гитлера, и что с ним надо сделать, и что с ним делают. И советского солдата нарисовали, который и делает с Гитлером все, что надо. Вобщем, нельзя было женщинам эту картинку показывать. А немцам можно и нужно.
Нашли две длинных жерди, воткнули их ночью перед траншеей, укрепили и растянули полотно картинкой к немцам.
Утром немцы увидели картину и стрелять стали, свалить ее хотели. Не получилось – чтобы жерди упали, пуль много надо, а через полотно пули насквозь проходят и ничего ему не делают.
Наши даже в громкоговорители ничего не стали кричать – и так все понятно.
К вечеру немцы убрали со своей стороны Сталина, а наши раздобыли прожектор и ночью Гитлера подсвечивать стали. Чтобы немцам виднее было.
Утром немцы закричали в громкоговоритель:
— Рус! Сними бильд!
Не сняли наши Гитлера, немцы опять стрелять стали, потом опять кричать, потом опять стрелять. И так целый день. А наши от души хохотали. Послушают немцев и смеются, посмотрят на картину и смеются еще сильнее.
Провисела эта картина несколько дней, а потом наши в наступление пошли, и уже было не до картины.
Иногда и похабный юмор на войне хорош!
6. ДВА ПИСТОЛЕТА.
Мои родители воевали. Оба были майорами, оба носили форму и погоны, оба имели оружие, оба носили пистолеты. И оба их теряли.
Недалеко от отца разорвался снаряд. Отца что-то толкнуло в бок и подкинуло. Он упал и потерял сознание.
Когда пришел в себя, отряхнул землю, стал шевелить руками и ногами. Все было цело, крови и боли не было. Контузия. Он подобрал лежащую рядом фуражку и поднялся. Сделал несколько шагов и почувствовал, что что-то не так, чего-то не хватало. Посмотрел на бок, куда был толчок, а кобуры там нет! Посмотрел внимательней, увидел кусок петли от кобуры, будто бы отрезанный острым ножом, и понял, что по ремню скользнул осколок снаряда, который и срезал кобуру с пистолетом. На ремне осталась царапина от осколка.
Позже отец так вспоминал этот момент:
— Жуткое ощущение! Я подумал, что, пройди этот осколок на несколько сантиметров в сторону, он выпустил бы мне все кишки. А так, просто потерял оружие.
Пистолета отец так и не нашел. Наверно, его засыпало землей от взрыва. Пистолет был обычный – стандартный «ТТ». Отец доложил о потере пистолета, но другого ему не выдали – не было. Сказали: «Подыщите себе что-нибудь в бою и носите».
Позже отец снял с убитого немца хороший «Вальтер» с кобурой, потом подвернулся «Парабеллум», и с этими пистолетами он дошел до конца войны.
Мамин госпиталь был в Ульяновске. В Ульяновск были эвакуированы многие столичные театры и артисты. Они быстро освоились в городе, стали давать концерты и ставить спектакли в городском театре. Естественно, почти всегда были аншлаги. Билеты в театр достать было практически невозможно.
Мамина хорошая знакомая, прекрасный человек, Анна Вячеславовна Золотова, будучи заведующим отделом сектора здравоохранения ульяновского обкома партии и видя работу мамы, что называется, без сна и без отдыха, не выдержала и сказала ей:
— Наташа! Тебе надо хоть немного отвлечься от работы, иначе ты не выдержишь, сгоришь! – и повела ее в театр на какой-то спектакль.
Мама была стройная, интересная женщина, ей очень шла военная форма, а поскольку выходных платьев у нее не было вообще, в театр она пошла в полной военной форме; в гимнастерке, в шинели, и, конечно, как полагается, с оружием.
Надо сказать, что пистолет хозяйственники ей подобрали специально: вместо внушительного «ТТ» — небольшой бельгийский «Браунинг» в аккуратной кобуре, которая подвешивалась к поясному ремню изящными кожаными ремешочками с пряжками. Мама хранила оружие в сейфе, в кабинете и брала его только в случае необходимости, что было очень редко.
В гардеробе мама сняла шинель, надела ремень с пистолетом на гимнастерку и вместе с Анной Вячеславовной отправилась в зрительный зал.
После спектакля в гардеробе, получив шинель, мама сняла ремень и ужаснулась: вместо кобуры с пистолетом на нем болтались обрезки ремешочков. Кобуру с пистолетом срезали так, что мама даже не почувствовала.
Мама была ужасно расстроена. Вызвали милицию, мама написала заявление, но пистолет впоследствии так и не нашли.
А маме выдали обыкновенный «ТТ».
Потеря пистолетов мамой и отцом произошла почти в одно и то же время…
7. КОМАНДИР ПОЛКА
Анатолий Станиславович Куприянец. В сорок первом году был лейтенантом, в сорок четвертом – майором. В двадцать восемь лет — командир 596-го Легкого артиллерийского полка. Молод, решителен и крут.
Отец почти два года был у него замполитом.
Отношения у них сложились хорошие, уважительные. Друг с другом были хотя и на «ты», но по имени-отчеству.
Когда Красная Армия начала наступать и гнать немцев, отец и Куприянец всегда в освобожденных деревнях располагались в одной избе.

Командир полка Куприянец и отец
В самом начале наступления, в одной из первых освобожденных деревень пригляделась Куприянцу изба прямо в центре деревни, на небольшой площади. Хозяйка, пожилая женщина, приняла их с отцом хорошо, но как-то без особой радости. Расположились они, оставили вещмешки с имуществом и вышли на улицу. А на площади народ гуляет, солдаты, женщины деревенские, дети – мужиков-то почти не осталось в деревне. Танцуют, песни поют, да и выпить кое-что нашлось. Веселятся вобщем, радуются!
Походили Куприянец с отцом по площади, посмотрели на веселье и вернулись в избу, стали на ночлег располагаться. Вышел Куприянец на задний двор, вдруг, видит: тень какая-то в сарае мелькнула. Будто человек там прячется.
— Немец! — подумал офицер, позвал отца, достали они пистолеты и тихонько стали к сараю подходить.
Аккуратно дверь приоткрыли, заглянули в сарай – нет там, вроде никого. Но тень-то была!
— Кто здесь? Выходи! Стрелять буду! – кричит Куприянец.
И по-немецки:
— Хальт! Хенде хох!
Что-то зашуршало в углу сарая, и вылез худощавый сутулый мужичок.
— Ты кто? – В ответ какое-то невнятное бормотание. – Что ты здесь делаешь? – И опять бормотание.
Куприянец рассердился, пистолет на мужика навел:
— Выходи! Марш вперед! – и повел его в избу.
Зашли они в комнату, Куприянец отцу говорит:
— Покарауль его, а я пойду хозяйку найду.
Отец пистолет держит, с мужика глаз не спускает. Тот стоит и что-то под нос бормочет, на молитву похоже.
— Может, верующий, старовер какой-нибудь, от войны скрывается – думает отец. Спрашивает мужика, тот не отвечает.
Тут и Куприянец хозяйку привел.
Увидела хозяйка мужика, стала, как вкопанная и молчит.
— Кто это? – Куприянец спрашивает.
— Хозяин, муж мой – еле выдавила из себя хозяйка. – От немцев прятался.
— Как это прятался? Он что, не видел и не слышал, что мы село освободили? Врете вы! А ну, пошли! — рассвирепел Куприянец, толкнул мужика пистолетом, кивнул отцу, и они вывели его на улицу.
На улице мужик еще больше сжался и опять забормотал, но уже отчетливее:
— Отведите меня в штаб, отведите в штаб…
А площадь гуляла! Людей на площади прибавилось, слышно было, как играла гармошка, играла фальшиво, но задорно. Пыль от пляшущих поднималась куда-то очень высоко, лица у женщин были красные и веселые.
Подвели Куприянец с отцом мужика к танцующим, поднял Куприянец пистолет и выстрелил вверх:
— Стой! Кончай музыку!
Смолкла гармошка, прекратились танцы, окружили люди троицу.
— Это кто? – спрашивает Куприянец и указывает на мужика.
А тот уже совсем внятно говорит:
— Не отдавайте меня им, ведите в штаб…
Как с цепи сорвались женщины, кричат, к мужику руки тянут:
— Это староста наш! Гадина! Немцам служил! Сволочь! – и еще покрепче слова.
Мужик совсем скукожился, закрыл лицо руками:
— Не отдавайте меня! В штаб ведите…
— Что с ним делать? – Куприянец у толпы спрашивает.
— Нам его отдайте! – женщины кричат.
— Берите! – и отец не успел опомниться, как Куприянец схватил мужика за шиворот и швырнул его в толпу разъяренных женщин.
Толпа сомкнулась, мужик оказался в центре, и вокруг него началась какая-то дикая пляска, сопровождаемая звериными криками и визгом женщин. Мужчины стояли, остолбеневши, не осознавая, что происходит.
Спохватившись, что внутри этой толпы творится что-то страшное, Куприянец и отец бросились в кучу, стреляя вверх и пытаясь прорваться в центр. На помощь пришли солдаты, и с огромным трудом удалось остановить безумие.
Когда женщин растащили, то увидели лежащего на земле мертвого старосту окровавленного, в разорванной одежде с расцарапанным лицом и вырванными волосами.
Веселье закончилось, народ с площади разошелся, а отец и Куприянец перешли в другую избу.
А вскоре пришел приказ, обязывающий командиров и личный состав воинских частей при освобождении населенных пунктов в отношении задержанных старост, полицаев и подозрительных лиц никаких самостоятельных действий не предпринимать, а передавать их в особые отделы.
***
Это было тоже в одной из освобожденных деревень, правда, уже зимой 1944-го, когда Красная Армия вовсю наступала.
Остановились отец с Куприянцем в избе у пожилого хмурого мужика. Изба была просторная, ухоженная, несмотря на войну. Сразу чувствовалась рука хозяина. Пошел мужик за дровами, Куприянец говорит ему:
— Пойдем, помогу, что ты будешь один таскать! – и пошел с ним.
Вдруг через несколько минут со двора стали крики доноситься, а потом в избу с шумом Куприянец мужика втолкнул, пистолетом ему в лицо тычет:
— Застрелю! Сволочь! – за грудки трясет его.
Молчит мужик, не смотрит на Куприянца, а тот опять:
— Пристукну тебя сейчас, гад! – и другие слова.
— Подожди, — отец говорит. – В чем дело?
— А ты сам пойди, посмотри! – кричит Куприянец.
Вышел отец во двор, зашел в сарай, посмотрел внутрь, и нехорошо ему стало: рядом с дровами на соломе увидел четыре отрубленных выше колена ноги в немецких сапогах.
Выскочил отец из сарая, вернулся в избу сам не свой. Куприянец уже успокоился слегка, отпустил мужика, опустил пистолет, спрашивает:
— Зачем ты это сделал?
— Сапоги хорошие на убитых немцах были, весной ноги оттают, сниму, носить буду, а ноги закопаю.
— А чего же ты их сразу с немцев не снял? – отец спрашивает.
— Не мог, замерзли.
Услышал это Куприянец, опять пистолет поднял:
— Мародер! Люди воюют, кровь проливают, а ты… Хуже фашиста! Пристрелю к чертовой матери! – и курок взводит.
Отец говорит Куприянцу:
— Брось ты эту сволочь! Пошли в другую избу.
Плюнул Куприянец, оставил мужика, на отца показал:
— Его благодари!
Спрятал пистолет, оделись они с отцом, взяли вещмешки и ушли искать другую избу.
Прошло несколько лет после смерти отца, и я в каком-то произведении прочел описание такой же ситуации, только в Первую мировую войну. Тоже наш мужик-куркуль, тоже отрубленные ноги, по-моему, австрийских солдат.
Прочитал, вспомнил рассказ отца и подумал:
— Сколько лет прошло, а люди остались такими же!..
***
Наши войска освободили деревеньку днем, а к вечеру в деревню вошел артиллерийский полк и стал размещаться на ночлег.
Пошли отец с Куприянцем себе избу для ночлега подыскивать. Подошли к одной избе, постучали, вышла старушка, отец ей говорит:
— Здравствуй, мать! Пустишь переночевать?
— Пущу, — говорит старуха, потом посмотрела на отца и спрашивает: — А как тебя зовут?
— Иван,- отвечает отец. – А что?
Всплеснула старуха руками:
— Не может быть!
— Это почему же? – удивляется отец. – Иван я, отец мой был Павел, Иван Павлович я!
— Вот ведь, немой черт! Не соврал! – и старушка опять на отца смотреть стала. Внимательно, с восхищением каким-то, с улыбкой доброй.
— Какой немой? Какой черт? – не понимает отец.
— Да немец, будь он проклят, вчера говорил: «Матка! Завтра к тебе Иван придет. Скажет «Здравствуй, матка!». И откуда же он знал, окаянный!
Куприянец хохочет, а отец обнял старушку и говорит:
— Прав был немец! Пришел я, мать! Принимай! Никаких больше чертей не будет – ни немых, ни говорящих!
8. В ГЕРМАНИИ
Это было уже в Германии. Наши наступали. Ушли немецкие войска из городка. Отступили на несколько километров в соседний населенный пункт. Занял артиллерийский полк городок, первым вошел в него. Радуются солдаты, радуются командиры. И начальство довольно. Говорят: «Молодцы! Наградим!».
А в городке спиртзавод был.
Не углядели командир полка, замы и офицеры, как к вечеру весь полк перепился. Расслабляться стали солдаты после почти четырех лет войны. В усмерть расслабились, ни одного трезвого! Двое в чанах спиртовых утонули – не плавают люди в спирте!
Ходят по городку командир полка Куприянец с отцом и офицерами, а на каждом шагу пьяные солдаты попадаются. Кто еле идет, шатается, кто сидит, где попало, а кто и вообще лежит.
Никогда отец такого страшного пьянства не видел. Как с цепи сорвались люди, забыли про все: что война идет, что немцы рядом, что убить могут… Видимо, настолько сильно было внутреннее напряжение у солдат, что никакие тормоза не действовали. Ничего не останавливало! Снять нужно было это напряжение. Вот и сняли!
Боится Куприянец, что кто-нибудь из жителей городка к своим сбегает, те вернутся и без единого выстрела полк уничтожат. Не смогут несколько трезвых офицеров противостоять врагу.
Делать нечего, надо начальству докладывать. Доложили, помощи попросили. Начальство говорит, помощи не будет – неоткуда взять, но, если полк потеряете, а сами живыми останетесь, под трибунал пойдете. О наградах и думать не думайте. Звезды на погонах считайте, пока они еще есть.
Всю ночь офицеры без сна провели, солдат пытались на ноги поставить, а когда рассвело, поняли, что, слава Богу, обошлось! Перебежчиков в городе не оказалось, полк протрезвел, пришел в себя. Построил Куприянец солдат, сказал все, что думает. Доходчиво сказал, а потом доложил начальству.
Начальство скандал раздувать не стало, замяло ЧП. Наград, конечно, никаких не дали, но и звезд с погон не сняли. Устной взбучкой ограничились.
Так все и закончилось, а полк дальше на Берлин пошел.
***
В одном немецком городке был концлагерь. Небольшой был концлагерь, не помню я его название, отец говорил, а я забыл. Помню только, что на «М» название городка было. Не Майданек, не Маутхаузен, но тоже на «М».
Вошли наши войска в городок, подошли к концлагерю, снесли «студебеккером» ворота и выпустили людей.
На людей смотреть было страшно: худущие, еле ходят, все в полосатой одежде с номерами. Голодные.
Прежде всего, начали наши солдаты освобожденных кормить. Подогнали полевые кухни, еду варить стали, людям раздавать. Доктор появился, сказал, как таких голодных кормить надо. Понемножку еды давать можно. Нельзя изможденному человеку сразу много есть – желудки не выдержат, погибнут люди в страшных муках.
А голодные этого не понимают, мало им, от кухонь запах идет. Лезут за добавкой, об котлы обжигаются, есть просят. Жалко солдатам этих людей, сами чуть не плачут, а есть им больше не дают, говорят:
— Подождите немного. Отдохните. Подходите через несколько часов, еще накормим.
Не понимают люди, есть просят, а потом ругаться стали.
Разные узники были: поляки, французы, наши. Поляки и французы что-то по-своему кричат, а наши по-нашему:
— Изверги! Хуже фашистов! Те голодом морили, а вы еще хуже! Над людьми издеваетесь!
И на кухни лезут. Солдаты их отталкивать стали. Одного слегка толкнут, а он падает и других валит. Как доминошные кости, люди опрокидываются – худые, легкие. Тогда встали солдаты в оцепление: окружили кухни, сцепились локтями, не пропускают узников к котлам. Те на них напирают, кричат, но солдаты крепко держатся, никого не пускают.
Потом пришли военные из комендатуры. Стали бывших заключенных организовывать – переписывать, по группам распределять. А люди всё на кухни смотрят, к еде прорваться пытаются.
Говорят комендантские солдатам:
— Уходите, увозите кухни. Теперь уже мы будем этими людьми заниматься, сами будем их кормить.
Поехали солдаты, повезли кухни, а вслед проклятия от освобожденных и накормленных ими узников понеслись.
Вот во что голод людей превращает!
***
Привез отец из Германии полный комплект «буржуйской» одежды: фрак, манишку, панталоны и шапокляк – складной цилиндр. Для смеха привез, маме хотел показаться в таком обличье.
Рассказывал отец, что в мае 45-го в Берлине много брошенных магазинов одежды оставалось: магазины открытые стоят, а хозяев и продавцов нет, бежали. Наши этим и пользовались, особенно солдаты – рядились, кто во что. Кто в женское оденется, кто еще что-нибудь на себя напялит. А когда выпьют, то вообще, буйный разгул фантазии идет.
Однажды отец видел такую картину: идут по Берлину два крепко выпивших солдата и ведут под автоматами третьего, тоже нетрезвого. На третьем цилиндр надет, фрак с манишкой и сигара в зубах. Немца богатого изображает, а двое других, как будто бы его на расстрел ведут. Правда, у «арестанта» штаны солдатские и автомат через плечо, но это общей картины не портит. Идут, хохочут, двое третьего автоматами подталкивают, а тот кочевряжится, слова немецкие выкрикивает, какие знает.
Идет эта веселая компания по Берлину, Люди смотрят на них, кто смеется, а кто шарахается.
Вдруг, впереди из-за угла еще один солдат выходит, тоже пьяный, но поболее. Увидел идущую навстречу троицу, глаза кровью налились, автомат с плеча снимает:
— Куда вы эту сволочь ведете? Чего с ним связываться! Я его сейчас на месте!.. – и затвор у автомата передергивает.
Те мгновенно протрезвели.
— Стой! Погоди! Свой это! – кричат, и один из троицы встал между «арестантом» и автоматчиком.
А тот уже в раж вошел:
— Отойди! Сейчас стрелять буду! Ставь его к стенке!
Который во фраке и с сигарой, остолбенел, с места сдвинуться не может. Второй из троицы подскочил к стрелку, автомат начал отнимать, первый тоже подбежал, диск от автомата сумел отделить.
Тут и до автоматчика доходить стало, что что-то не так. Начал соображать, автомат опустил. Объяснили ему те трое, что развлекались, дескать, мы, а ты, дурак, и поверил.
Тот совсем озверел:
— Так, какого ж вы… — и так далее.
Потом пристегнул диск, закинул автомат за плечо и пошел, матерясь и пошатываясь.
А ведь мог погибнуть ни за что солдат. Тот, который во фраке был!
***
Не любили немцы поляков. Как сейчас говорят, на бытовом уровне не любили. Почему – непонятно. Но это факт.
В Берлине в 45-м после победы были все: и наши и поляки, которые вместе с нашими против немцев воевали.

Отец
Отец в то время жил в квартире у пожилой фрау и старался выучить немецкий язык. Нравился он ему. Хотел читать Гёте и Гейне в оригинале. Общался отец со своей хозяйкой и с другими немцами, которые к ней приходили, впитывал разговорный язык. Газеты и книги немецкие пробовал читать. Вроде и получаться начало. Но основное внимание отец уделял разговорному языку.
Хозяйка называла отца почтительно «герр майор» и довольно охотно вступала с ним в разговоры.
Однажды к хозяйке в гости пришла ее подруга, такая же пожилая фрау. Они с хозяйкой о чем-то оживленно разговаривали. Отец в это время находился в квартире, дверь в комнату отца была не закрыта, и до него доносились голоса женщин.
Отец к разговору не прислушивался, но вдруг до него не донесся отборный русский мат, очень четко и громко произнесенный гостьей. Потом мат повторился.
После этого отец усидеть на месте уже не мог, вышел к женщинам, извинился и спросил, о чем идет разговор. Подруга хозяйки с восторгом рассказала, что она теперь знает военный пароль русских, и со смаком опять выдала длинную матерную тираду.
Нельзя сказать, что у отца завяли уши, много мата на фронте было, но слышать подобные выражения из уст добропорядочной пожилой немецкой женщины было для него как-то неожиданно.
Выяснилось, что у этой женщины также квартирует наш «герр капитан», который, в отличие от отца, равнодушен к немецкому языку, но проявляет интерес к алкогольной продукции немецкого производства. В один из дней, когда капитан, находясь в квартире, изучал очередной немецкий напиток, в дверь постучали. Хозяйка открыла дверь, и капитан увидел польского офицера, который на немецко-русско-польском сленге сказал, что он ищет квартиру для проживания. «Герр капитан», будучи уже под влиянием частично изученного им напитка, ответил поляку на превосходном русском матерном языке, что квартира уже занята. Поляк этот язык, видимо, тоже знал, потому что тут же ушел без лишних расспросов.
Хозяйка же, видя реакцию гостя, восприняла слова капитана как текст служебного пароля, запомнила его и с удовольствием поделилась с подругой.
Она добавила:
— Теперь, когда ко мне придет какой-нибудь поляк, я ему скажу… — и снова громко и отчетливо, почти без акцента пожилая интеллигентная немецкая фрау произнесла несложное, но длинное площадное русское матерное ругательство.
Наверное, даже Тургенев не осознавал, насколько велик и могуч русский язык!
***
Убивают не только на войне. Убивают и после войны. Но как же это несправедливо и нелепо, когда человек, прошедший всю войну и четыре года смотревший смерти в лицо, после победы погибает от шальной пули, выпущенной своим же товарищем!
В Германии это было. Летом 45-го.
Был у отца фронтовой приятель, капитан. Видел я его, фамилию помню, но называть не буду, хоть и давно уже нет его.
Решил этот капитан из пистолета пострелять, потренироваться. Вынес во дворик стол, поставил у стенки, разложил на нем разные предметы-мишени и начал стрелять! Пострелял, а потом стал пистолет чистить там же, во дворике на столе. Разложил на столе ветошь, шомпол, вынул обойму из пистолета, тут его из-за ограды кто-то окликнул. Ограды в немецких садиках невысокие были – чуть выше пояса.
Поговорил капитан, вернулся к столу взял пистолет, увидел, что курок забыл спустить, и спустил. Не вспомнил, что перед этим затвор не передернул, чтобы патрон из ствола выбросить. А патрон в пистолете остался. Выстрелил пистолет, вылетела пуля и попала прямо в висок проходившему мимо двора солдату. Погиб солдат.
Судили капитана. Не стал суд капитана наказывать, посчитали произошедшее несчастным случаем. Да и какой может быть суд, когда капитан сам себе приговор на всю оставшуюся жизнь вынес.
А солдату на родину похоронку послали. Написали, что пал он смертью храбрых.
9. И ПОСЛЕДНЕЕ
Спрашивал я у отца:
— Страшно было на войне? Смерти не боялся?
— Боялся! Нет таких людей, которые бы смерти не боялись. Это противоестественно самой сути человека. Но все боятся по-разному. Тем и страшна война, что страх смерти у людей притупляет, к нему привыкать начинают. Нельзя каждый день в страхе жить. Но не все привыкают, кое у кого этот страх за пределы выходит. Бывает такое: летит снаряд, а ты лежишь и думаешь: мой, не мой. Пролетел, разорвался где-то, значит, опять не мой. А рядом с тобой лежит боец, и с каждым снарядом в нем все больше и больше ужас накапливается. И доходит боец до такого состояния, когда уже ему все равно – убьют или не убьют, лишь бы все поскорей закончилось. Не выдерживает он, вскакивает и с диким криком бежит в одиночку на врага под огнем. От страха бежит, от запредельного ужаса. А за ним и другие поднимаются. На танки поднимаются, на дзоты. Трудно сейчас представить, что многие подвиги в таком состоянии совершались. Героизм отчаяния это называется.
Говорил отец и про другое:
— А еще на фронте боялись ранений, особенно в живот. Говорили, пусть лучше убьет, чем кишки разворотит. Смерть тогда будет мучительнее. Поэтому перед боем ничего не ели, боялись желудок заполнять. Голодными в бой шли.
Так что, был страх на войне, много его было.
***
Однажды спросил я отца:
— Папа, скажи, а что для тебя самое ужасное на войне было?
Подумал немного отец, а потом ответил.
Какого угодно ожидал я ответа, только не такого:
— В сорок пятом на шоссе перед Берлином раскатанный немец. Знаешь, как кошку или собаку сбитую машины раскатывают до толщины бумаги, так вот и немца этого раскатали. Лежит он на дороге, как ковер какой-то, а по нему машины едут и люди идут. И никто на него внимания не обращает. И хоронить его никто не будет. Так и будет лежать, пока в пыль не сотрется. А ведь у него, наверно, семья была, жена, дети.
Потом добавил:
— Вот какая цена человеческой жизни на войне. Это и есть самое ужасное!
РАССКАЗЫ МАМЫ
1. ЭВАКОГОСПИТАЛЬ № 3230
Война застала маму в должности заведующей городским отделом здравоохранения Новочеркасска. Руководство города возложило на нее задачу организации сети госпиталей в Новочеркасске. За короткое время было сформировано и развернуто 12 госпиталей. В августе 41-го маму призвали в армию, присвоили ей звание военврача третьего ранга (капитана) и назначили начальником эвакогоспиталя № 3230, самого крупного из развернутых.
Мамин госпиталь на 1200 коек располагался в здании мелиоративного института (теперь НГМА). Раненых в госпиталь привозили днем и ночью на санитарных поездах.
Когда фронт стал подступать к Новочеркасску, было решено госпиталь передислоцировать вглубь страны, в Узбекистан, в Чарджоу. Но в тылу госпиталь находился недолго. Война требовала приблизить медицину к фронту, и в марте 42-го госпиталь 3230 вернулся в освобожденный первый раз от фашистов Ростов.
Недолго госпиталь находился в Ростове. Начались налеты немецкой авиации. Бомбежки становились все чаще. Чтобы обезопасить жизнь раненых, госпиталь передислоцировали в станицу Цимлянскую (тогдашнюю, сейчас она находится на дне Цимлянского моря).
Враг наступал, госпиталь пришлось снова передислоцировать, теперь уже в Махачкалу. Часть раненых погрузили на большое санитарно-транспортное судно и 13 июля отправили в сторону Калача. А фронт подошел уже вплотную к Цимлянской. В госпиталь, буквально, хлынул поток раненых непосредственно с поля боя. Вопреки военно-медицинской тактике, эвакогоспиталь оказался впереди полевого подвижного госпиталя. Опять были развернуты операционные и перевязочные. Начался прием раненых
Двое суток персонал госпиталя не отходил от операционных столов, между тем, бои уже велись у самой станицы, связь с Ростовом прервалась. Мама на свой страх и риск задержала пассажирское судно «Москва» и приказала погрузить на него находящихся в госпитале раненых.
Не успел пароход отойти от пристани, как налетели немецкие бомбардировщики. Бомбы посыпались на станицу и на людей. Налет продолжался несколько часов. Половина станицы, в том числе, здание госпиталя со всем имуществом были уничтожены. Но раненых там уже не было. Когда бомбежка только началась, мама приказала укрыть пароход с ранеными у берега под кроной высоких прибрежных деревьев. Бомбардировщики не сразу увидели прикрытый листвой пароход, поэтому сбросили не него всего несколько бомб, которые не причинили ему вреда.
Никто из раненых во время бомбежки не пострадал. Погибли семь человек медперсонала.
Когда бомбардировка прекратилась, пароход отошел от Цимлянской и тоже отправился по направлению к Калачу. Но по пути постоянно появлялись немецкие самолеты, которые либо сбрасывали бомбы на пароход, либо его обстреливали.
Мама понимала, что рано или поздно, пароход будет поврежден, и раненые пострадают – слишком хорошую мишень для самолетов представлял идущий по реке пароход. Чтобы этого не произошло, она высадила людей на берег, организовала несколько конных повозок, погрузила на них тяжелораненых и отправила повозки посуху. Все остальные, кто мог идти, шли за повозками пешком. С мамой были моя сестра пятилетняя Галина и бабушка (мама отца). Мама, Галина и бабушка тоже пошли за повозками.
Но налеты немецких самолетов продолжались и на пеших. Бомбежки заставали людей на открытой местности. Людям некуда было прятаться, они падали на землю и закрывали голову руками. Большей защиты у них не было.
В один из очередных налетов Галина увидела, как бомба упала неподалеку от мамы. Маму взрывом оторвало от земли и перевернуло. Поднявшись и шатаясь, мама схватила Галину, повалила ее и накрыла своим телом. Так они и пролежали до конца бомбежки. Медсестру, отвечавшую за уцелевшее госпитальное имущество, убило на глазах у мамы и Галины. Бомба попала прямо в нее, когда она бежала. От медсестры осталась только воронка. Хоронить было нечего. Медсестра оказалась единственным погибшим в этом переходе человеком.
Постепенно налеты прекратились, а еще через какое-то время госпитальная колонна соединилась с ранеными из отправленного ранее парохода. После этого мама рассталась с Галиной и бабушкой. Она отослала их в глубокий тыл в Ульяновскую область, в село на родину бабушки. Перед расставанием мама сняла с себя рубашку и надела ее на бабушку, у которой кроме этой рубашки никакого имущества больше не было. Потом поцеловала Галину и посадила их на пароход. Можно представить, что было в душе мамы, которая, расставаясь с дочерью, не знала, увидит ли она ее еще.
После долгих мытарств и прибытия госпиталя в Махачкалу, мама поехала в Москву для доклада и получения дальнейших распоряжений. Сейчас я не могу вспомнить и точно сказать, в какую инстанцию она должна была прибыть, помню только военачальника, которому мама рапортовала. Это был командующий 44-й армией генерал Петров.
Когда генерал услышал рапорт мамы, что госпиталь 3230 прибыл в Махачкалу, он не поверил и с некоторым раздражением сказал:
— Какой госпиталь! Какой номер 3230? Что вы говорите? Куда прибыл, в какую Махачкалу? По нашим данным госпиталь 3230 уничтожен бомбежкой, и люди погибли!
Мама передала ему подтверждающие документы и повторила еще раз с гордостью за коллектив:
— Госпиталь номер 3230 согласно приказу прибыл в Махачкалу. Среди раненых потерь нет! Все раненые нами спасены и отправлены в глубокий тыл. Вам, товарищ генерал, дали неточные сведения.
Генерал немного помолчал, потом с теплотой взглянул на маму, пожал ей руку и сказал:
— Молодцы! Спасибо за солдат!
После этого маму представили к награждению орденом «Красной Звезды».
А в январе 1943 гола маму назначили начальником крупного специализированного госпиталя № 1847 в Ульяновске.
Эвакогоспиталь 3230 за время войны сменил не одно место дислокации. Последним местом нахождения госпиталя была столица Венгрии Будапешт, где его и расформировали в декабре 1947 года.
2. БОЛЕЗНЬ БАБУШКИ
Вместе госпиталем из Новочеркасска с мамой ушли, бросив квартиру и имущество, моя сестра Галина и бабушка. Так по всем городам и весям они и кочевали вместе с мамой и госпиталем. А отец был на фронте и регулярно писал им письма. Знали они, что он жив, когда письмо от него получали, а когда задерживались письма, переживали очень сильно. Так и жили – от письма до письма.

Мама, бабушка и сестра-Галина
В Ульяновске в 44-м году вдруг перестали от отца письма приходить. Неделя, другая, а писем нет! Мама, конечно, волнуется, но продолжает ждать, а бабушка сон нехороший увидела и решила, что убили отца. Нет его больше, а похоронка почему-то не пришла. А еще она решила, что, раз Ваня, сын ее родной, погиб, то никому она на этом свете не нужна. Жить больше не хочет.
Было ей в то время 67 лет, и ничем она не болела. Но решила умереть. Легла на кровать, и не встает. Есть отказывается, только изредка воду пьет. На глазах тает человек.
Мама моя ее стыдить начала:
— Мама! Ну, как тебе не стыдно! Что ты Ваню живого хоронишь! Он придет, а тебя нет! Каково ему будет! Ему и так на фронте тяжело, а тут еще ты! Что я ему напишу?
Ничего не слушает бабушка, плачет и повторяет:
— Нет больше Вани, убили его! Никому я не нужна!
Никак мама не может на нее подействовать. Тяжело маме приходится – в госпитале дел, хоть отбавляй, от отца писем нет, а тут еще и бабушка…
Врачей к бабушке приводила. Врачи тоже ничего не могут с ней сделать. Без болезни здоровый человек умирает. Реально умирает, уже вставать перестала, почти не разговаривает.
Не может мама ничего с ней поделать. К самому худшему приготовилась.
И тут от отца письма пришли, несколько штук сразу. Оказалось, на переформировании он был, а там почто плохо работала: он писал, а письма почему-то не отправлялись. Почти целый месяц лежали неотправленными. А потом сразу, в один день все и отправили.
Плакали от радости мама и бабушка. Бабушка быстро потом поправилась.
А сколько семей вообще писем не дождались! Ни писем, ни похоронок. Им каково было! Во что им верить оставалось?
3. РАНЕНЫЕ
Страшная штука война! Уродует людей и морально, и физически.
Основным профилем маминого госпиталя были ранения головы. Каких только раненых не привозили! Кому-то осколком лицо разорвало, кто-то в танке горел и все лицо сжег, кому-то вообще голову раскололо и кусок черепа вырвало. Много было раненых и по другим профилям.
Были у мамы фотографии раненых, Много видел я этих фотографий – смотреть без страха нельзя, что с людьми война делала. Лечили врачи раненых: лица по кусочкам собирали, зашивали, вставляли пластины в головы, протезы различные делали.
Выживали люди, выздоравливали. Раны телесные затягивались, а душевные – наоборот, раскрывались и все больше и больше болели.
Принесут костыли раненому, у которого ноги оторвало, встанет он на них, сделает два шага, упадет и подниматься не желает. Размотают руки другому, а вместо рук одни культяшки, даже за голову схватиться нечем. Слезы текут у молодого и здорового парня. Снимут бинты с головы третьего, посмотрит он на себя в зеркало, и не хочет жить больше.
Те, которые постарше, да духом посильнее, молчали, зубы в порошок стирали, в свои думы уходили. А молодые многие в истерику впадали, Кричали, плакали, есть отказывались, из окон пытались выпрыгнуть.
А уж, сколько врачам, сестрам и нянечкам от раненых доставалось, так об этом особые книги надо писать. Понимали медики, каково этим людям, утешить старались, успокоить, боль их душевную на себя взять. А у самих тоже сыновья и мужья на фронте были. Сами письма со страхом открывали – а вдруг, похоронка… Но раненые об этом не думали, зло свое и боль свою на этих людях срывали.
Некоторые раненые письма домой писали женам своим молодым или девушкам любимым. Писали, что ранило меня, изуродовало, и теперь я калека. Примешь ли такого? Будешь ли любить меня, как прежде? И действительно калеки писали, и другие писали, те, которые выздоровели и без всяких уродств были, которых потом из госпиталей на фронт отправляли. Эти последние, как они говорили, проверяли своих женщин. Жестоко проверяли, бесчеловечно, но, к сожалению, не беспочвенно.
Ответные письма, увы, разные были. Большинство женщин наших писали, что любого примут, хоть обрубочек, лишь бы возвратился. Какой есть, слава Богу, что живой! Святые женщины писали!
Но были и такие, что отказывались от раненых. Мало их было, но были! По-разному писали, прощенья просили, а в конце почти одинаково – не приезжай, забудь. От таких писем раненым еще хуже и больнее становилось особенно тем, кто действительно изувечен был.
Не хочу осуждать этих женщин. Кто знает, почему они так писали? Что у них в душе было, что их на это толкало? Не думаю, что легко давалось им такое решение. Им в тылу тоже очень тяжко приходилось.
***
Приходит к маме в кабинет медсестра:
— Товарищ майор, там раненый разбушевался, истерика у него, никак успокоить его не можем.
Мама халат надевать не стала, как была в форме, так и пошла в отделение. А в палате крики несутся, солдат на кровати бьется, врачи и сестры пытаются за руки его взять, утихомирить. Не получается.
— Что случилось, — спрашивает мама. — Почему он так себя ведет?
— Ранение у него было серьезное. Осколок попал в лицо и в черепе застрял – говорит один из врачей. – Так с осколком и привезли без сознания. Глаз пришлось удалить, челюсть по косточкам собрали, все лицо кусками сшивали. Долго лежал забинтованный. Когда бинты сняли, увидел он себя в зеркале, в истерику впал. Кричит, жить не хочу, зачем вылечили, лучше бы я умер.
Подошла мама, посмотрела на раненого, действительно, картина страшная: молодой солдатик, совсем мальчишка, а все лицо в шрамах, глаза нет, рот перекошен, не закрывается, вместо одной ноздри дыра.
Понимает мама, что чудеса врачи сотворили – осколок из головы вынули, к жизни человека вернули, а он жить не хочет.
Говорит ему строго:
— Ты что кричишь? Ты же солдат! Все уже позади. Живой остался, скоро совсем выздоровеешь, домой поедешь.
Раненый увидел маму, перестал биться на кровати, но не унимается, продолжает кричать:
— Какой я солдат! Куда я поеду, кому я нужен! Урод я!
— А ну, прекрати истерику – еще строже мама говорит. — Не урод ты, а герой! Любая девушка с тобой пойдет! Другие завидовать ей станут, что ты у нее есть.
Успокоился солдат, кричать перестал, посмотрел на маму и горько так говорит:
— Что вы мне сказки рассказываете, какая девушка на меня посмотрит, кто со мной пойдет… Ко мне и прикоснуться-то страшно ей будет, а не то, что поцеловать!
Потом посмотрел на маму:
— А вот вы, товарищ майор, вы, женщина красивая, раз вы так говорите, смогли бы вы меня поцеловать?
Ни на секунду не задумалась мама. Наклонилась, обняла солдатика и поцеловала его в разбитое лицо, в перекошенные губы. И не было ей противно, а так жалко паренька стало, что потекли у нее слезы.
Совсем стих солдат, заплакал он единственным глазом и тихо сказал:
— Спасибо!
Взглянула мама на сестер и нянечек, а они тоже глаза вытирают.
Долечился потом этот солдатик и уехал домой.
4. ДЕТИ БЛОКАДЫ
В госпиталях для раненых организовывали концерты. На таких концертах часто выступали известные артисты, певцы, музыканты. Давали концерты и в мамином госпитале. Любили раненые эти концерты, собирались все, кто мог. Кто сам приходил, а кого приводили или приносили другие.
Иногда и раненые своими силами концерты устраивали – были и среди них таланты. Медперсонал привлекали. Репетировали и выступали с удовольствием.
А еще очень любили раненые детские концерты. Детские коллективы шефство над госпиталями брали. Любили раненые детей. У многих свои дома оставались, вспоминали их на концертах, порой слезы наворачивались от пения детского.
Давал как-то в мамином госпитале концерт один из детских домов Ульяновска. Дети песни пели, стихи читали, танцевали, небольшие сценки ставили. И мама на этот концерт пришла. Сидела рядом с директором детского дома и слушала. Хорошо дети пели, особенно двое, брат и сестра. Сестре лет восемь-девять, а братик года на три младше. И дети хорошенькие, и пели ангельскими голосочками.
Заслушалась мама. Закончили дети петь, захлопали им, а к маме наклонился директор и спрашивает:
— Понравилось вам, хорошие детишки, правда?
— Еще бы, — говорит мама. — Очень!
— А вы знаете, что эти детишки свою мать съели!
Маму мою, как будто током ударило:
— Как? Когда? Не может быть!
А директор продолжает:
— Из Ленинграда они, блокадники. Жили с матерью, мать все, что могла, им отдавала, потом от голода умерла, а соседи и воспользовались. И сами людоедствовали, и детей кормили. Когда об этом узнали, соседей арестовали. Те оправдывались потом, что, дескать, детей спасали от смерти. Что с ними сделали, не знаю, а детишек через «Дорогу жизни» вывезли, потом к нам отправили. Мы сначала поверить не могли, но документы с ними прислали, там все написано было. У нас психологи есть, занимаются ими.
Потом добавил:
— Представляете, сколько труда надо положить, чтобы они об этом забыли и никогда не вспоминали! Дети-то очень хорошие!
Много лет прошло, а этот мамин рассказ до сих пор не могу без ужаса вспоминать. Поверить невозможно, но это было!
5. ВРАЧИ ГОСПИТАЛЯ 1847
Крупный специализированный госпиталь 1847, начальником которого была моя мама, дислоцировался в тылу, в городе Ульяновске, в здании школы № 3 (Мариинской гимназии). Этот госпиталь принимал раненых с тяжелейшими ранениями головы и других органов.
Госпиталю всячески помогали местные власти. Помогали, чем могли руководители местных предприятий и организаций. Так, замечательная женщина, председатель Заволжского колхоза Анна Анисимовна Прудникова постоянно помогала продуктами, даже выделила госпиталю корову, молоко которой ежедневно как лекарство давали раненым.
О врачах госпиталя надо сказать отдельно. Ужасный конвейер войны работал неустанно. Стоя иногда сутками у операционных столов и чуть не падая от переутомления, эти люди поистине творили чудеса.
Основную часть врачебного персонала госпиталя составляли московские медики. Врачи, хорошо известные в мире медицины, работавшие ранее в крупных больницах, клиниках и институтах, оставив прежнюю работу, шли в госпиталь, чтобы спасать раненых бойцов.
Черепно-мозговым отделением госпиталя командовал прекрасный врач-нейрохирург Э.И. Вольгрод. Сложнейшие операции, которые он делал, были образцом мастерства высочайшего уровня.
Большинство врачей госпиталя 1847 были евреями по национальности. Мама говорила, что этим людям надо было ставить памятники при жизни. Невозможно передать, с какой самоотверженностью, самоотдачей и любовью к раненым они работали. Не один раз на утреннем обходе врачи после труднейших бессонных ночей буквально стоя засыпали или просто падали от усталости. Из какого же человеческого материала они были сделаны!
Начальником глазного отделения госпиталя была Елизавета Абрамовна Хургина. Доктор медицинских наук. Профессор. Одновременно исполняла обязанности главного окулиста отдела Управления эвакогоспиталей Ульяновской области. Молчаливая, замкнутая женщина. Выдающийся специалист в области глазной хирургии. Делала уникальные операции. С помощью инженеров предприятий Ульяновска сконструировала электромагнит большой мощности для извлечения осколков из глаз раненых. Сотням людей вернула зрение.
У мамы была родная сестра, которая жила в селе, неподалеку от Ульяновска. Ее сын, мамин племянник 14-летний Ваня, с детства страдал от дефекта зрения, усугубленного врожденным косоглазием. Врачи, к которым обращалась мамина сестра, ничем помочь мальчику не могли, а его отец к тому времени погиб на фронте.
В один из перерывов между операциями, когда Елизавета Абрамовна отдыхала в одиночестве и курила (а курила она много), мама подошла к ней, рассказала о Ване и попросила посмотреть его. Елизавета Абрамовна ответила коротко:
— Хорошо, Наталья Алексеевна, привозите.
Ваню привезли, Елизавета Абрамовна его посмотрела, взяла в отделение и через несколько дней прооперировала. Зрение у мальчика восстановилось, косоглазие исчезло.
В последствии, когда Ваня был уже Иваном Алексеевичем, на одной из медкомиссий пожилой врач-окулист задал ему дежурный вопрос:
— Были у вас какие-либо травмы глаз или операции?
Ваня ответил, что в 1943 году ему была сделана операция на глазах.
— А кто вас оперировал? – удивленно поинтересовался доктор
— Профессор Хургина – с гордостью сказал Ваня.
Доктор долго и внимательно рассматривал Ванины глаза, потом покачал головой и тихо сказал:
— Узнаю руку Елизаветы Абрамовны!
До конца своих дней Ваня с огромным теплом и благодарностью вспоминал доктора Хургину.
Война закончилась, врачи госпиталя постепенно начали разъезжаться по домам, в 1946 году мама демобилизовалась, в 1948 году родился я, и маму полностью поглотили будничные заботы.
В начале 50-х годов, когда начало набирать силу печально известное дело врачей-вредителей, мама была страшно возмущена и стала разыскивать своих бывших коллег по госпиталю для того, чтобы каким-нибудь образом им помочь, если их затронула эта чудовищная кампания. Кое-кого она нашла, кое-кого не смогла.
Мама особенно беспокоилась за Хургину — Елизавета Абрамовна была прямым, независимым человеком, и мама опасалась за ее судьбу. Но найти ее так и не смогла.
Прошло еще несколько лет. Сталин умер, и «дело врачей» утихло. Однажды, возвратясь из Москвы, отец рассказал маме:
— Наташа, я в выходные был на Новодевичьем кладбище и увидел там могилу с надписью «Хургина Елизавета Абрамовна. 1899 – 1950». Так что, я ее нашел.
Светлейшая память Елизавете Абрамовне и всем врачам госпиталя № 1847! Людям с большой буквы.
6. ВОЗВРАЩЕНИЕ ОТЦА
Отец демобилизовался в 1946 году. Мама тогда была еще в Ульяновске, и отец приехал туда. В Ульяновске мама сдружилась с Анной Вячеславовной Золотовой, которая очень помогала маминому госпиталю, часто в нем бывала, присутствовала даже на некоторых операциях. Раненые знали Анну Вячеславовну и хорошо к ней относились.
Мужу Анны Вячеславовны, Вячеславу Николаевичу Заворотнову, кадровому офицеру, в это же время дали отпуск, и он приехал в Ульяновск практически одновременно с отцом. Анна Вячеславовна не видела мужа почти всю войну.
Две семьи решили отпраздновать возвращение мужчин вместе.
Мама говорила, что в самые трудные дни войны отец как-то написал в письме: «Если вернусь живой, напьюсь!». И как совпадение, почти в то же время то же самое написал жене и Вячеслав Николаевич.
И вот возвращение состоялось. Картина была приблизительно такая:
Стол с закусками и выпивкой, за столом сидят счастливые мама и Анна Вячеславовна, по комнате бегают дети (Галина и Герман – сын Анны Вячеславовны, на год младше Галины), а под столом сидят крепко выпившие отец и Вячеслав Николаевич. Сняли с себя форму, сидят, обнявшись, в одних кальсонах, поют песни, периодически чокаются и кричат:
— Мы живы! Мы победили!
Так под столом и заснули. Им можно – они победители!
Владимир Боляев


